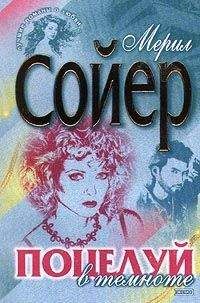Владимир Набоков - Смех в темноте [Laughter In The Dark]
Зимой сестра приказчицы познакомила ее с фрау Левандовской, пожилой, важной на вид дамой с аристократическими замашками, слегка подпорченными ее склонностью к смачным выражениям и большим малиновым пятном во всю щеку. Последнее она объясняла тем, что мать ее, вынашивая свое дитя, страшно перепугалась пожара. У этой Левандовской Марго и поселилась в комнате для прислуги. Родители были довольны, что от нее освободились, тем более что находили, что всякий труд, приносящий доход, честен; к счастью, и брат, который, бывало, поговаривал не без угроз о капиталистах, покупающих дочерей бедняков, временно уехал работать в Бреслау.
Она позировала сперва в классной комнате какой-то женской школы, а потом в настоящем ателье, где рисовали ее не только женщины, но и мужчины, в основном совсем молодые. Темноголовая, элегантно стриженная, совершенно голая, она сидела на коврике, подогнув под себя ноги, опираясь на выпрямленную руку с бирюзовыми венками, чуть склонив худенький стан (так что виднелся прелестный пушок в ложбинке между плечами, одно из которых касалось ее рдеющей щечки), в позе задумчивого изнеможения и смотрела исподлобья, как рисовальщики поднимают и опускают глаза, и слушала легкий шорох карандашной штриховки, пытающейся запечатлеть тот или иной изгиб ее тела. От скуки она выискивала самого привлекательного из художников и смотрела на него томным влажным взором всякий раз, когда он, с полуоткрытым от прилежания ртом, поднимал лицо. Ей никогда не удавалось смутить его, и это ее немножко сердило. Когда она прежде думала о том, как вот будет сидеть, ярко освещенная, голая, под сходящимися взорами многих глаз, ей сдавалось, что будет довольно приятно. Оказалось, что это утомительно и только. Тогда она стала для развлечения накладывать грим на лицо, мазала свои сухие горячие губы, подводила свои и так подведенные тенью глаза и раз даже чуть-чуть оживила кармином соски. Ей за это сильно влетело от Левандовской.
Так проходил день за днем, и Марго лишь смутно понимала, чего именно добивается, хотя перед ее глазами всегда маячил далеко-далеко образ фильмовой дивы в шикарных мехах, которой шикарный отельный швейцар, держащий громадный зонтик, помогает выбраться из шикарного автомобиля. Она была погружена в грезы об этом блестящем бриллиантовом мире, когда вдруг фрау Левандовская впервые упомянула о влюбленном молодом провинциале.
— Нельзя тебе жить без друга, — спокойно сказала Левандовская, попивая кофе. — Ты — бойкое дитя, ты — попрыгунья, ты без друга пропадешь. Он скромный человек, и ему нужна тоже скромная подруга в этом городе соблазнов и скверны.
Марго держала на коленях собаку Левандовской — толстую желтую таксу. Она потянула вверх шелковистые уши собаки, так что кончики их сошлись над нежной собачьей головой (их внутренняя сторона сильно смахивала на темно-розовую, многократно использованную промокашку), и, не поднимая глаз, ответила:
— Ах, это успеется. Мне только шестнадцать. И зачем? Все это будет так — зря, я знаю этих господ.
— Ты дура, — сказала Левандовская спокойно, — я тебе рассказываю не о шалопае, а о щедром человеке, который видел тебя на улице и с тех пор только тобой и бредит.
— Какой-нибудь старичок, — сказала Марго, целуя бородавку на собачьей щеке.
— Дура, — повторила фрау Левандовская. — Ему тридцать лет, он бритый, шикарный — шелковый галстук, золотой мундштук.
— Гулять, гулять, — сказала Марго собаке, и та сползла на пол и потом, в коридоре, затрусила, держа тело бочком.
Между тем господин, на которого ссылалась фрау Левандовская, отнюдь не был скромным молодым провинциалом. С Левандовской он познакомился через двух темпераментных коммивояжеров, с которыми играл в покер в поезде по дороге из Бремена в Берлин. О цене сначала не упоминалось: сводня просто показала фотографию улыбающейся девочки с солнечными бликами в глазах и собакой на руках, и Миллер[22] (фамилия, под которой он представился) одобрительно кивнул. В назначенный день Левандовская накупила пирожных и наварила много кофе. Она в категоричной форме посоветовала Марго надеть старое красное платьице. Около шести раздался жданный звонок.
«Чем я рискую, — подумала Марго. — Если он мне будет противен, то я ей так и скажу, а если нет, то я еще успею решить».
К сожалению, нельзя было так просто установить, дурен ли или хорош Миллер. Странное, своеобразное лицо. Матово-черные волосы, небрежно зачесанные назад, казались слишком длинными и неестественно сухими, и, хотя на нем, конечно же, не было парика, прическа необычайно его напоминала. Его щеки воспринимались как впалые из-за резко выпирающих скул, обтянутых матово-белой кожей, как будто на нее лег тонкий слой рисовой пудры. Внимательные блестящие рысьи глаза и треугольные ноздри ни на минуту не оставались спокойными, между тем как массивная нижняя часть лица с двумя застывшими складками по бокам рта была неподвижна. В его одежде было что-то чужестранное — и в замечательной голубой рубашке, и в ярко-голубом галстуке, и в сине-вороном костюме с широченными панталонами. Это был высокий и стройный мужчина, и он великолепно двигался, поводя крепкими квадратными плечами, среди плюшевой мебели фрау Левандовской. Марго ждала совсем не такого, и, сидя со скрещенными руками, она чувствовала себя потерянной и несчастной, а Миллер тем временем потрошил ее взглядом. Вдруг он спросил ее резким, звенящим голосом, как ее зовут. Она сказала.
— А я малыш Аксель, — произнес он с коротким смешком и, так же внезапно освободив ее от напора своего взгляда, продолжил свой разговор с фрау Левандовской. Они степенно рассуждали о берлинских достопримечательностях, причем в его обращении к хозяйке дома чувствовалась замаскированная вежливостью издевка.
Погодя он внезапно замолк, закурил и, отдирая прилипший к полной, очень красной губе кусочек папиросной бумаги (куда задевался золотой мундштук?), сказал:
— Идея, сударыня. Вот билет в партер на Вагнера, уверен, опера вам понравится. Так что надевайте шляпку и поезжайте. Возьмите на мой счет такси.
Левандовская поблагодарила, степенно возразив, что предпочитает остаться дома.
— Можно вам сказать два слова? — проговорил Миллер, явно недовольный, и встал со стула.
— Выпейте еще чашку, — спокойно предложила хозяйка. Миллер облизнулся и снова присел. Вдруг он просиял улыбкой и в какой-то новой, добродушной манере принялся рассказывать смешную историю о каком-то своем приятеле, оперном певце, который в «Лоэнгрине»[23], будучи под мухой, не успел сесть на лебедя и решил ждать следующего. Марго кусала губы и вдруг наклонила голову и затряслась от истерического девичьего смеха. Фрау Левандовская тоже похохатывала, и ее массивный бюст уютно трясся.
«Что же, — подумал Миллер, — раз старая стерва желает, чтобы я разыгрывал роль влюбленного дурака, я ее ублажу, да так, что она сама рада не будет. Сделаю это гораздо старательнее и успешнее, чем она ожидает».
И назавтра он пришел снова, а потом зачастил в дом. Фрау Левандовская, получившая только небольшой задаток и рассчитывавшая на остальное, не отходила от парочки ни на шаг. Иногда, когда Марго поздно вечером выводила собаку, Миллер внезапно вырастал из сумерек и шел рядом, с нею, и ее это так волновало, что она невольно ускоряла шаг, и забытая такса отставала, ковыляя бочком. Фрау Левандовская вскоре почуяла эти тайные встречи и стала выводить собаку сама.
Так прошло больше недели со дня знакомства. Однажды Миллер решил перейти к действиям. Платить огромную сумму нелепо, раз дело вот-вот выйдет само собою без помощи сводни. Придя вечером, он рассказал хозяйке и Марго еще три смешнейших истории — ничего более смешного те и не слыхивали, — выпил три чашки кофе, затем, подойдя к фрау Левандовской, обхватил ее, быстрой, мелкой рысцой понес в ванную и, ловко переставив ключ, запер дверь снаружи. Бедняга была так поражена, что в течение по меньшей мере пяти секунд не могла вымолвить ни звука, зато потом — о Боже, чего только она не кричала!..
— Забирай вещи и айда, — обратился он к Марго, которая стояла среди гостиной, держась за голову.
Он отвез ее в маленькую квартирку, снятую им накануне, и, едва переступив порог, Марго с охотой, с жаром предалась судьбе, осаждавшей ее так давно.
Миллер нравился ей чрезвычайно. Что-то в хваткости его рук, сжимавших ее, в прикосновении толстых губ доставляло совершенно особенное удовлетворение. Он мало с ней разговаривал, но часто сидел, держа ее у себя на коленях, посмеиваясь и о чем-то думая. Ей никак не удавалось отгадать, какие у него дела в Берлине, кто он и в какой гостинице останавливается; как-то она попыталась исследовать содержимое его карманов, но он так треснул ее по костяшкам пальцев, что ничего не оставалось, как отложить это занятие до другого раза, но после данного эпизода он постоянно был начеку. Каждый раз, когда он уходил, Марго боялась, что он не вернется. Если не считать этой боязни, она была баснословно счастлива и мечтала, что их совместное житье-бытье будет длиться всегда. Время от времени он кое-что ей дарил — шелковые чулки, пуховку, — но избегал дорогих подарков, зато водил ее в хорошие рестораны и в кинематографы, а после сеанса шел с ней в кафе, и, когда однажды у нее рот открылся от изумления, потому что знаменитый фильмовый актер оказался за одним из соседних столиков, Рекс взглянул на того, и они поздоровались — после этого ее ротик открылся еще шире.